Баритон Томас Хэмпсон — академический музыкант, который любит классический мюзикл и кантри-энд-вестерн; американец, живущий в Европе; любитель новых технологий и старых книг; популяризатор, строящий в устной речи предложения более сложные, чем найдешь в ином романе. За более чем 30-летнюю карьеру Хэмпсон спел множество оперных партий и песен на 14 языках, поработал с великими — от Леонарда Бернстайна до Николауса Арнонкура, сам стал живой легендой — в кавычках (такой титул ему присвоила американская Библиотека Конгресса) и без кавычек.
В феврале 2020 Томас Хэмпсон во второй раз выступит в Москве с публичным концертом — на этот раз в концертном зале «Зарядье» вместе с камерным струнным оркестром Амстердамская Симфониетта. В программе немецкая романтическая песня, Lied — безусловный конек Хэмпсона. Специально для «Вашего досуга» Ая Макарова поговорила с певцом о профессии, выборе репертуара и концерте как культурном трансфере и образовательном проекте.

Вы много работаете с Амстердамской Симфониеттой?
Это наш третий совместный тур. Мы для каждого делаем новые аранжировки: к самому первому Дэвид Мэттьюз сделал переложения песен Шуберта, Сэмюэла Барбера и «Четырех серьезных напевов» Брамса — мы их использовали на альбоме Tides of Life. По-моему, замечательная запись получилась.
Мне нравятся туры с камерным оркестром — дирижера нет, так что я сам работаю с ними надо всеми нюансами, агогикой, фразировкой, смыслом всего, что мы делаем. Амстердамская Симфониетта состоит из людей, которые всегда открыты для обсуждения. Мы очень дружим. С их руководителем Кандидой Томпсон мы знакомы с тех пор, как я впервые делал подобный проект: песни Густава Малера много лет назад (в 2000 году — прим. ред.) в Амстердаме.
Наши первые совместные туры прошли практически подряд, потом мы не гастролировали несколько лет, а теперь вот снова собрались вместе.
Во втором туре мы добавили песни Ганса Эйслера. На самом деле они предлагали мне Эйслера еще во время оно, но я отказался.
Почему?
Не знаю — поставил пластинку, открыл ноты и как-то не пошло. У меня всегда был очень плотный график: выступления, репетиции, новые вещи. Если бы вы знали, от чего мне приходилось отказываться только потому, что предложение поступало в неудобный момент, — вы бы мне этого не простили.
Вообще я дурак, что не согласился тогда на Эйслера. Потом (в 2013 году — прим. ред.) я стал разбирать его песни по просьбе Кристиана Тилемана (которому не отказывают) и понял, что каждая — маленький шедевр.

От Бетховена вы тоже сначала отказались?
Нет, An die ferne Geliebte — моя идея.
Американских композиторов не будет?
Нет, в этот раз на весь тур одна программа. Во второй части второго тура мы исполняли Стивена Фостера и еще Томаса Мура. Очень люблю эти песни, но большого успеха они тогда не имели. В этот раз мы решили обойтись без них, но, может быть, через пару лет сделаем полноценную программу из музыки Фостера, например.
В конечном итоге программу определяете вы?
Наше сотрудничество с Cимфониеттой — это диалог. Есть то, чего они хотят как ансамбль, есть то, чего хочу я как музыкант, есть наше общее желание работать вместе.
Идею исполнить песни Штрауса предложил Виллем де Бордес (он муж Кандиды и нынешний художественный руководитель Нидерландского филармонического оркестра) — в ансамбле все любят Штрауса и хотят его играть, поэтому будет Штраус!
В общем, мы обсуждаем программу друг с другом, и это замечательный формат. И еще мы всегда даем организаторам право выбирать то, что они хотят. Например, в Москве нас попросили вместо Бетховена исполнить Шуберта и Вольфа.
Бетховена, несмотря на юбилей, не захотели и в Гренобле, куда мы едем после Москвы, — зато там мы сыграем Курта Вайля, Youkali (Tango Habanera).

Вы сказали, что у вас нет дирижера. То есть за пультом стоите вы?
Идея исполнить песни Малера составом только из солиста и ансамбля из 18-20 человек принадлежит Амстердамской Симфониетте, потом так сделали еще несколько камерных оркестров.
Был один концерт с Симфониеттой, когда у меня было свое видение определенных вещей, у музыкантов — свое, а человек с палочкой (не буду называть имен) нам никак не помогал договориться. Ладно, сказали мы, а давайте вообще без дирижера. Попробовали — получилось. Теперь я в таких проектах что-то вроде концертмейстера. Например, в песнях Брамса я просто показываю сильную долю, чтобы мы могли скоординироваться, все остальное есть в нотах. Нельзя сказать, что я прямо дирижирую.
А например в Wo die schönen Trompeten blasen Малера я, правда, встаю лицом к оркестру и полноценно дирижирую вступление, потом поворачиваюсь к залу и начинаю петь.
В любом случае, не надо думать, что я пою и дирижирую одновременно — между нами существует музыкальный диалог. И мы все лучше понимаем друг друга. В последнем туре я взаимодействовал в основном с одной Кандидой, а понятно все было всем.
Телепатия?
Главное — иметь достаточно времени для репетиций, тогда каждый будет понимать, что мы хотим получить. Репетиции — это особое время и очень полезная для меня тяжелая и последовательная работа. За время репетиций мне нужно принять все главные решения, потому что это не концерт под рояль — здесь, если я что-то изменю прямо во время выступления, все собьются. Конечно, это не значит, что мы просто повторяем одно и то же, как шарманка, но все основные вещи — агогику, например — определяем заранее.
Как оркестровый дирижер вы ведь дебютировали в Москве, на фестивале Opera Apriori в 2018 году. В этот раз продолжать не будете?
Я учился дирижировать еще в колледже, правда недолго и в основном в частном порядке. Я никогда не ставил себе цели стать профессиональным дирижером, но сейчас я этим занимаюсь и планирую продолжать. Сейчас я стал меньше петь, так что в ближайшие лет 5-10, наверное, начну больше дирижировать. Не знаю, как пойдет.
Совсем никаких планов нет?
Есть несколько отличных предложений петь и немного дирижировать, но с датами мы пока не определились. Но я бы хотел еще сделать несколько вещей как полноценный оркестровый дирижер, например, Девятую симфонию Дворжака и Blumine из Первой симфонии Малера. Я просто очень их люблю.
Вот прямо так — «полноценный»?
Конечно, круто было бы сыграть целую малеровскую симфонию, но приниматься за такое надо только когда очень хорошо знаешь, что делаешь.
Девятую Дворжака я люблю с детства — в школе я играл партию тубы в переложении для духового ансамбля.
Хотя, боюсь, я не смогу спокойно дирижировать, возьму палочку и разрыдаюсь. Ну да ладно.
Говорят, это уходит с практикой.
Надеюсь, что не только это. Прошлым летом, когда я дирижировал Второй танец из «Увольнения в город» Бернстайна в Мюнхене, я заметил, что многовато двигаюсь на подиуме. Оркестру это неудобно. Нужно учиться так не делать.
К счастью, мы немного позанимались с Кириллом Петренко — он дал мне много ценных советов и воодушевлял. И сам явно получил удовольствие.

Вернемся к московской программе этого года. Ганс Эйслер...
Я мало пел его песни, а вот Маттиас Герне записал довольно важный альбом — The Hollywood Songbook.
Он и «Серьезные песни» записывал.
Песни Эйслера много пел Фи-Ди, но такое ощущение, что он это делал просто для полноты картины. Конечно, Фишер-Дискау никогда не опускался ниже известного уровня качества, но, на мой взгляд, Маттиас лучше сумел передать суть музыки Эйслера. Мне представляется, что на какое-то такое исполнение рассчитывал бы и сам Ганс.
Думаете, можно сейчас угадать, чего хотел бы Эйслер?
Не хочу читать вам лекцию про Эйслера, но понимаете... Эйслер — один из самых загадочных композиторов XX века. Он не просто умел мастерски писать музыку для любого заказчика, будь то Брехт в Германии до войны, Голливуд во время или Восточная Германия после, он еще и имел удивительный талант всегда оказываться не в ладах с обществом, в котором живет. Ничего не принимал на веру.
«Серьезные песни» Эйслера — квинтэссенция мировоззрения человека, разочаровавшегося в коммунистических идеалах и, должно быть, под конец жизни осознавшего, что он ничего не добился. Человека из семьи блестящих интеллектуалов, готовых всадить в спину нож за политические разногласия.
Этот цикл — взгляд назад, попытка обдумать идеологию, которую он разделял, понять, что она дала миру. Это видно не только по выбору текстов, но и по самой музыкальной структуре, по строению музыкальных фраз. Он мастер заманить слушателя красивой и на первый взгляд безобидной песней: ты ее слушаешь, втягиваешься, и вдруг — бултых! — тебя окатывает сарказмом.
Я бы описал эти песни одним словом — «разочарование». Он увидел, что кое в чем сильно ошибся, что большинство его усилий пошло прахом, и что пытаться переделать людей — бесполезно.
Подозреваю, что для слушателей в России Эйслер прежде всего — автор гимна Коминтерна и гимна ГДР. А для вас как американца — голливудский композитор?
Пятидесятые годы в США, годы «Красной угрозы» и маккартизма — это омерзительная глава американской истории, и Эйслер просто попал под раздачу. Военные решили, что наконец-то поймали важного вредителя-коммуниста и устроили ему показательную порку.

Вы говорите так, как будто в жизни Эйслера были одни неудачи.
Нет, Эйслер был невероятно знаменит, особенно в Голливуде. Американская intelligentsia его на руках носила. Он пользовался огромным уважением, а его музыку использовали многие другие композиторы — с его позволения или без. Конечно, все композиторы говорят: «Конечно, мы крадем, главное красть красиво», — но лично про Эйслера я слышал, что он мог просто поделиться идеями с коллегой, у которого застряла работа, например, над саундтреком, мог подарить тему: бери, мол, и пользуйся. Изумительный был человек!
Достойная компания Шуберту и Бетховену?
Вне всякого сомнения. Особенно если еще добавить Вайля и Штрауса. При составлении программы у меня первый вопрос: можно ли произведения ставить рядом в эмоциональном плане, не будет ли качелей. А в том, как положить на музыку текст (точнее, стихи), Гансу Эйслеру мало равных среди академических композиторов XX века.
Для вас важно, какими они были людьми — Бетховен, Шуберт, Эйслер?
Вот и вы туда же.
Тут можно посмотреть с двух сторон. Мы можем говорить о том, что взгляды человека неотделимы от его творчества, ergo можем ли мы исполнять музыку противных людей; по этой статье идет пресловутая проблема антисемитизма Вагнера. Или мы можем говорить, что песни, даже у таких гениев как Шуберт, — этакое автобиографическое свидетельство о том, какими были эти люди и как они жили, и так далее, и тому подобное...
Но по-моему, тут вообще другой сюжет. Я считаю, что песня, особенно у академических композиторов — это дневник своей эпохи. Чтобы понимать, как развивалась европейская культура и ментальность, особенно после череды революций, очень важно хорошо знать песни Шуберта. А через сто лет наступает время Ганса Эйслера — потому что его музыка помогает понять конфликт Западного и Восточного блоков и обоюдной паранойи на всех уровнях. Это точно такой же дневник эпохи.
Так что какая разница, хотел бы я познакомиться с Гансом Эйслером как с человеком или нет. Но вообще представьте только: поужинать с Малером. Или с Бетховеном. Или с Шубертом. А?
Большая честь, конечно, но вот приятный ли опыт?
Я встречался со многими известными людьми и как-то не поддерживаю всеобщую радость от того, что такой-то, хоть и гений, но при этом еще и нормальный человек. Все разные.
Мы тут преклоняемся перед Великим Моцартом и Великим Бетховеном, но я помню, как вышел «Амадей» Формана и всем пришлось как-то смиряться: маэстро Моцарт любил жопы, и весь юмор у него был ниже пояса.
Если бы вы встретили на улице Бетховена, не зная, что это Бетховен, то, скорее всего, перешли бы на другую сторону улицы, подальше от этого немытого бомжа, который идет, шатаясь и посылая проклятия в никуда. К концу жизни Бетховен стал совсем не в ладах с обществом.
Когда мне попадается прохожий, которого хочется с первого взгляда обозвать психом, я учу себя задаваться вопросом о том, какая личность прячется за этим внешним видом и поведением. И тогда, конечно, сразу меняется отношение — начинаешь сочувствовать человеку. Хотя, конечно, сложно не быть циником...
Словом, неважно, какими людьми были авторы, важно, что они сделали?
Я начал отвечать издалека, но видите ли, мне не кажется, будто любая песня — это личный дневник композитора. Это дневник всех его современников сразу. Как говорил Аарон Копланд, композиторы — дети своего времени, и показывают в своем творчестве, каково было жить там и тогда.
В XX-XXI веках к услугам композиторов вся палитра мировой поэзии, а когда Lied — немецкая романтическая песня — только зарождалась, она была тесно привязана к поэтическому и философскому контексту своей эпохи. Большинство авторов песен XIX века использовали стихи современников — потому что сами их читали, да и все вокруг тоже. Даже Штраус брал в основном современную ему поэзию.
Значит, песня — это территория культурного трансфера?
Даже в нынешнем глобализированном мире такие концерты, как этот, — это осторожный диалог между Западом и Востоком. У Запада и Востока ведь разные культурные и музыкальные традиции, и я эти различия принимаю и уважаю.
Наша программа — это очень здоровая форма культурного обмена. Москвичи услышат музыку, которая здесь наверняка не слишком известна. Приятно, что есть те, кому хочется прийти.
Я с огромным энтузиазмом ехал на прошлогодний фестиваль «Опера Априори» с программой The American Spirit. Даже если кто-то шел домой с концерта, внутренне не соглашаясь или не принимая эту культуру, они все равно получили возможность лучше понять контекст, в котором на политической арене смог появиться такой человек, как Авраам Линкольн.
То же самое происходит, когда к нам приезжают выдающиеся российские музыканты и артисты. Даже если им нравится западная жизнь и они наслаждаются ее свободой, русскими они при этом быть не перестают.
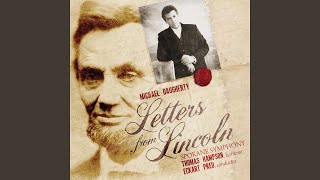
То есть ваш концерт — еще и этакий образовательный проект?
Для меня это скорее диалог, чем позиция ученик-учитель. Концерт — это диалог между исполнителями, композиторами и поэтами с одной стороны и теми, кто слушает, — с другой, это обмен мировоззрением и жизненным опытом, и я по-человечески счастлив, когда меня приглашают поучаствовать в таких проектах, как этот. Люди купят билет и придут, а мы сделаем так, чтобы они об этом не пожалели. Такая у нас работа.
Хотя учиться здесь тоже приходится, в том смысле, который соответствует немецкому слову Bildung — развитие личности. Когда слушатель уходит с концерта, он гораздо больше знает о мире, чем до того. Это прекрасно и очень важно.
Просто концерты не для того придуманы, чтобы люди про себя считали «ой, нужно подготовиться заранее» или, наоборот, «наконец-то высплюсь».
Если человека меняет сам концерт, то тексты в программках — уже перебор?
Интеллектуальное сопровождение нужно как воздух. Любая дополнительная информация, которую мы можем сообщить слушателю в любой точке мира, поможет ему разделить мировой культурный опыт — музыкальный, визуальный, вербальный — то есть лучше осознать, кто он, какой он, и почему он такой.
Не опубликовать текст песен в программке или хотя бы не рассказать, о чем там поется — это безответственность. Нет, даже не безответственность — это оскорбление и для публики, и для авторов. Напечатать перевод — значит отдать дань уважения интеллекту слушателей; если перевода нет, я бешусь.
А как насчет лекций? Вступительного слова перед концертом?
Это было бы необходимо меньше, не будь наша система образования такой беспомощной.
Сегодняшние концертные площадки — это университеты будущего. Если они не покажут людям культуру как единое пространство, кто покажет?
Думаете, это работает?
Конечно.
Вот Николаус Арнонкур любил и умел объяснять. Он был одним из пионеров такого формата. Даже выступая в Зальцбурге, он мог обернуться к аудитории и начать рассказывать, что означают тамтамы у Дворжака.
Помню, как лет 20-25 назад он вышел и сказал: «Раз нам предстоит слушать увертюру "Эгмонт", давайте послушаем текст из "Эгмонта" Гёте». Никто такого не ожидал. В общем, они играли музыку, потом выходил один немецкий актер (Герд Бекман — прим. ред.), читал текст, они снова играли — было потрясающе. И после этого мы подумали: ого, да тут все еще сложнее и интереснее!
А вы сами? Вы делаете образовательные проекты, читаете лекции, проводите мастер-классы, но перед концертами не выступаете.
Мне часто предлагают сказать вступительное слово, но много разговаривать перед концертом вредно для голоса. Иногда я встречаюсь со слушателями после концерта, и это, с одной стороны, может что-то добавить к их впечатлениям, но с другой — им может быть ценнее уйти домой, не расплескав ощущение от концерта. Так что очевидного решения тут нет, и я завидую дирижерам: они могут себе позволить говорить хоть прямо во время выступления.
Только ни в коем случае нельзя брать менторский тон и силой впихивать знания, нельзя держать слушателей за несмышленышей. Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить свысока. Мне кажется, люди гораздо умнее и любопытнее, чем о них принято думать. И поощрить их любопытство можно только одним способом — показать мир, которым стоит интересоваться.

И нет никакой проблемы с тем, чтобы привлечь аудиторию? Умные и любопытные слушатели сами придут?
Как вам сказать. Если в программе стоят Бетховен и Берг, то в первом отделении все сидят слушают Бетховена, а после антракта, когда должен быть Берг, часто видишь, что половину как водой смыло. Зубин Мета в Лос-Анджелесе просто объявлял в начале концерта, что на репетиции они решили поменять части программы местами.
Может, просто не играть тогда Берга? Бесполезно?
В мире рыночной экономики очень легко проникнуться идеей, будто коллективный выбор платежеспособной публики по определению является той точкой, к которой и надо прикладывать усилия. Поэтому в индустрии классической музыки мы всегда говорим о том, что на нас лежит большая ответственность: мы даем людям возможность услышать в музыке и словах нечто такое, что не просто удовлетворяет сиюминутную потребность в развлечении.
Да, если кто-то идет на концерт просто для того, чтобы отвлечь себя от того, что он называет повседневностью, — он это получит. Но мы можем дать больше. Главное — слушать с открытым разумом и сердцем. Концерт — работа для сердца и ума, а не только повод отвлечься от мобильника.
Значит, главный стимул, чтобы прийти на ваш концерт...
Людям нужна песня. Lied, mélodie, романс — неважно: песня — это жанр, в котором история положена на музыку. Будь то кантри-энд-вестерн «сельского Шекспира» Хэнка Уильямса или песни Неда Рорема на стихи Бодлера и Уолта Уитмена, да хоть песни Тоби Кита... Везде главное — рассказать историю, сделать очевидным для слушателя, что все это касается его самым личным и непосредственным образом. И неважно, какие песни так работают, лишь бы работали.
Но это не все!
Николаус Арнонкур говорил: слушать песни — значит думать сердцем. Или помните Блеза Паскаля: «Le cœur a ses raisons». То есть у сердца, cœur, есть свой разум, raison. Паскаль считал, что ум неотделим от сердца в познании истины, а мы идем на концерт, чтобы открыть свое сердце чему-то и с помощью разума обратиться к сердцу.
И песня требует совместной работы raison и cœur как мало что другое. Если угодно, текст — это разум, а музыка — это сердце. Слова и музыка, организованные по определенным законам, образуют хитрый эмоциональный узор. Порой композитор и поэт вступают в восхитительный спор друг с другом — это же диалог, в нем можно спорить.
И ведется этот диалог в поле метафор. Кто же не любит метафоры! Метафоры в историях — это главное: мир песен состоит из басен, парадоксов, загадок, сюрпризов, цинизма, сарказма, юмора; это не мир для избранных, нет никакого барьера для вхождения.
А возраст?
Да там же сплошь подростковые страдания. Помните, после публикации «Вертера» был всплеск самоубийств — сотни человек захотели так же изысканно уйти из жизни.
Сегодня мы считаем этот роман рафинированным шедевром, памятником литературы, но Гёте рассказывал актуальную историю, он написал то, что хотел, мог и что должен был написать там и тогда.
Хорошенькое влияние на умы.
Он искал способ обозначить человека как личность, индивидуума.
Для меня (не только потому, что я американец — или, может быть, как раз поэтому) индивидуум — самое святое понятие на свете. И это понятие предполагает гражданские свободы. И для меня права гомосексуалов, права чернокожего населения, права меньшинств, права женщин, права всех людей — это вопрос одних и тех же гражданских прав. А «гражданские» — значит с уважением к достоинству каждого и к взглядам, которые отличаются от твоих.
Можно жить при коммунизме или при любом другом строе, но ты все равно будешь сознавать, кто ты есть, и любой концерт академической музыки — это встреча с собственной сущностью. Это опыт, который дает тебе силу и свободу. Тот, кто хочет добраться до глубинной сути своей человеческой личности, не может не полюбить мир классической песни.
Какие песни вы бы взяли с собой на необитаемый остров?
Все. Они у меня в голове.
Иногда мне приходится быстро уходить из музея, потому что голова не выдерживает всей той музыки, которую я слышу, глядя на картины.
Можно сказать, что я часто оказываюсь на необитаемом острове — когда хожу гулять с женой или один, особенно в Швейцарии или в австрийских предгорьях. Когда стоишь на вершине и видишь далеко вокруг, смотришь на Альпы и долины, в голову сами собой приходят мысли. А ко мне — я же музыкант — приходят звуки.
Да и вообще, зачем сегодня на необитаемый остров что-то брать? Взял айпад с терабайтом памяти, и с тобой любые книги и любая музыка.
Перевод текста на русский: Екатерина Бабурина